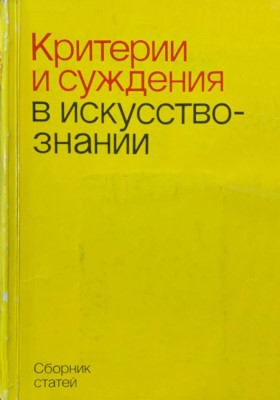 В.Н. Лазарев
В.Н. Лазарев
О методологии современного искусствознания.
Если задать себе вопрос, в чём заключается основной недостаток современной истории искусств как науки, то ответ, на мой взгляд, может быть лишь один — в её односторонности. У нас существует много различных направлений — иконография, иконология, формалистический метод, знаточество, социология, но нет попытки органически сочетать все эти элементы в единое целое, иначе говоря, дать их синтез. С удивительной легкостью молодые учёные игнорируют тра-
(91/92)
диции веками складывавшейся науки и становятся на путь легковесных, произвольных суждений, наивно полагая, что тем самым они выступают создателями новой науки. На самом деле они говорят плоские банальности либо впадают в салонный тон, что очень нравится издателям, специализировавшимся на публикации роскошно оформленных книг с цветными репродукциями.
Никогда не следует забывать того, что наша наука имеет старые и славные традиции, и нет смысла, в погоне за мнимой новизной, их игнорировать. В этом отношении глубоко показательна деятельность крупнейшего учёного нашего времени Э. Панофского. Хотя он выработал новый метод и был создателем иконологии, он никогда не пренебрегал унаследованной от учёных старшего поколения иконографией, хотя и давал последней весьма критическую оценку. Опираясь на достижения немецкой исторической науки рубежа XIX-XX веков, Панофский развил многие из положений М. Вебера, В. Дильтея, Э. Трельча в таком направлении, что они зазвучали по-новому и постепенно заполнились новым содержанием. В этой преемственности Панофского от лучших традиций науки позднего XIX века заключается не его слабость, а его сила. Поэтому всё то новое, что он внёс в науку, опиралось на крепкий фундамент, а не висело в воздухе.
Современная история искусства, если она только хочет быть наукой, не может ограничиться обсуждением одних лишь атрибуционных проблем, столь увлекающих современных итальянских историков искусства. Вопрос о принадлежности той или иной картины тому или иному мастеру обычно имеет наибольшее значение для антикварного рынка, недаром им особенно рьяно занимаются историки искусства, тесно связанные с этим рынком. Я не хочу утверждать, что вопросам атрибуции не следует уделять серьёзного внимания, но я решительно выступаю против того, чтобы атрибуция была бы единственным предметом интересов современного историка искусства. Если только последний хочет быть настоящим учёным, он должен уделять внимание и другим, не менее важным вопросам — социальной среде, из которой вышел тот или иной художник, фактам его биографии, порою бросающим неожиданно яркий свет на творческое лицо мастера (и это показали последние исследования о Босхе, Брейгеле, Грюневальде, Веласкесе), связям с духовной культурой его времени и с ведущими идеями эпохи, точками соприкосновения художественной практики изучаемого мастера с его современниками. Но самым главным является такой анализ художественного произведения, чтобы содержание давалось не в отрыве от формы, как мы это наблюдаем у многих представителей иконологической школы, а в теснейшем с ней взаимодействии, иначе говоря — как некое диалектическое единство. Наиболее уязвимой стороной старой формалистической школы во главе с Г. Вёльфлином было то, что форма отрывалась от содержания и роль последнего сво-
(92/93)
дилась на нет. Современная методология требует гораздо более тонкого и глубокого подхода к этому вопросу — индивидуальной строй формальных средств выражения данного конкретного памятника должен быть раскрыт как единственно мыслимый эквивалент его неповторимо индивидуального содержания, иначе говоря, как адекватный ему, если он только действительно ему адекватен. Такой подход требует вдумчивого отношения к изучаемому памятнику и гораздо труднее того, что постоянно практикуется на страницах итальянских журналов, где дело чаще всего ограничивается разбором живописных приёмов, описываемых, как, например, у Роберто Лонги, с необычайным литературным блеском, но мало что дающих для глубокого постижения существа изучаемого объекта. Вообще одно из самых больших заблуждений современной науки об искусстве — это наивная вера в то, что с помощью стилистически отточенного слова (иначе говоря — с помощью художественной прозы) можно достичь эквивалента зрительному образу и тем самым раскрыть его сущность. При таком подходе дело дальше периферийной трактовки образа не идёт. Улавливаются, в лучшем случае, отдельные тонкие нюансы, но никакого научного истолкования искусства не получается. В современном научном исследовании очень важно соблюсти верные пропорции между отдельными элементами, то есть не утрачивать того, что французы называют proportion bien gardèe. Социальная среда и расстановка общественных сил очень важны, но им нельзя придавать того исключительного значения, которое им отводят А. Хаузер и Ф. Анталь, иначе роль индивидуальной творческой личности сводится на нет и множественность факторов развития подменяется одним лишь фактором.
Не намного лучше обстоит дело и с современной постановкой вопроса о символике художественного произведения. Её изучение крайне необходимо, но было бы неправильно сводить всё к символам и не оставлять никакого места тому, что действует на зрителя непосредственно и импульсивно. При таком подходе к художественному творчеству последнее теряет свою полнокровность, и художник, незаметно для самого исследователя, становится простым иллюстратором философских концепций. В таком положении оказался Микеланджело, чьему творчеству за последнее время было посвящено немало монументальных монографий. Из живого человека, жившего идеями своего века, Микеланджело превратился в бесплотное существо, как бы блуждающее в лесу символов, понятных лишь ему одному и отмеченных печатью глубочайшего эзотеризма.
К столь же парадоксальным выводам приводит тот тип исследования, в котором всё внимание учёного сосредоточено на анализе одного лишь формального языка. На этом скользком пути между маньеристами и Микеланджело оказался поставленным знак равенства, что стало возможным лишь благодаря полному игнорированию идейного мира великого художника. Такая гипертрофия
(93/94)
какой-либо одной стороны исследования неизбежно приводит к неверным, а порою и фантастическим выводам, потому что явление берётся не во всей его сложности, а лишь в одном аспекте, откуда рождается однобокость трактовки. И как тут не вспомнить ироническое изречение Козьмы Пруткова — «специалист подобен флюсу: полнота его одностороння».
В современной науке об искусстве очень существенна не только многосторонность подхода к изучаемому памятнику, с соблюдением верного соотношения между отдельными элементами анализа, но и объективность подхода. Что меня особенно поражает в ряде современных работ — это субъективный произвол в истолковании художественного произведения. Многое здесь идёт от художественной критики, но многое вытекает и из чувства безответственности. Недавно я разговаривал с одним молодым учёным, который заявил, что его весьма мало интересуют факты, ему важны концепции, которые прежде всего должны быть оригинальными. И если концепции не совпадают с фактами, тем хуже для фактов. К сожалению, такие взгляды довольно широко распространены среди молодых учёных. Особенно безудержна их фантазия в области иконологии. Если у Панофского иконологические штудии всегда имели внутреннюю логику и обладали большой стройностью, то у современных иконологов одна натяжка громоздится на другую. Невольно создается такое впечатление, что они a priori стремятся каждый предмет в картине, каждый элемент пейзажа, каждый цвет наделить символическим смыслом, мало считаясь при этом с основным замыслом художника. Зная из старых литературных источников, какое символическое значение имели в старину отдельные явления, они механически переносят на изучаемый ими объект всю эту кучу символов. Между тем совсем не очевидно, что если осёл символизировал в религиозном сознании человека XV века ведомый Христом в царство божье народ, то его изображение на картине того же времени обязательно должно было наделяться тем же смыслом. Оно могло быть введено художником в картину как дань его бесхитростной любви к природе, как отражение его пантеистических взглядов. При разработке иконологической штудии самое важное, чтобы выводы автора отвечали объективным намерениям художника и чтобы в них не было ничего лишнего, ничего придуманного, ничего искусственно высосанного из громоздкого филологического аппарата, наличие которого часто бывает абсолютно неоправданным, поскольку он весьма далёк от предмета исследования. Эпигоны иконологии очень часто забывают, что они имеют дело с искусством, а не со схоластикой. И им хочется дать один простой, но вразумительный совет — будьте поближе к искусству, не забывайте о его пластическом языке, о его специфических средствах выражения, об удивительной неповторимости этих средств, об их конкретности и наглядности. И тогда иконология встанет на своё место, превратившись в одну из компонент
(94/95)
художественного образа. В этой связи уместно привести слова В.Г. Белинского, высказанные в одной из статей о Пушкине. Хотя эти слова относятся к поэту, они целиком применимы и к художнику. «Если, — писал Белинский, — Вы изучили <…> произведения искусства со строгим беспристрастием и поняли верно, Вы уже не носитесь по воле ветров в воздушных пространствах своей прихотливой фантазии, но стоите твёрдою ногою на прочной почве <…> Вы будете судить о нём (то есть художнике) на основании его личности, будете от него требовать только то, что он мог бы сделать на основании уже сделанного им». И тогда, «когда Вы кончите его изучение, проникнитесь в сокровенный дух его поэзии, уловите тайну личности <…> ваша личность снова вступает в свои права и Вы из ученика делаетесь судьёю». [1] Замечательные слова, которые почаще следовало бы вспоминать всем тем, кто безудержный субъективизм оценок почитает одной из величайших доблестей в современном историке искусства.
Наша наука развивается в направлении всё большей филологической оснащённости. Исчерпывающее знание литературных первоисточников, наличие обширнейших собраний фотографий, блестящие успехи современной реставрационной практики, возможность совершить быстрое путешествие в любой уголок мира для изучения на месте обследуемого памятника, ознакомление в университете со всеми основными направлениями науки — всё это даёт в руки исследователя наших дней такие средства, о которых мог только мечтать учёный XIX века. Но всё это не решает вопроса о методе. Наша наука слишком распылилась, слишком распалась на отдельные, часто взаимоисключающие течения, ей недостаёт синтетичности, иначе говоря, способности органически объединить различные элементы в единое целое. Ставя так вопрос, я отнюдь не хочу отрицать возможность и необходимость специальных иконологических штудий либо детальных обсуждений отдельных атрибуций, но я только ратую за то, чтобы любая обобщающая работа, будь то сводный труд по истории искусства либо монография, посвящённая какому-нибудь отдельному художнику, строилась бы на научных основах, была бы синтетической по своему методу. Тогда, и только тогда знаточеская монография, сколь бы ценной она ни была, перерастёт в то, что можно с полным основанием назвать научным трудом по истории искусства.
[1] Белинский В.Г. Сочинения Александра Пушкина. Статья пятая. — Собр. соч., т. 3, М., 1948, с. 374-375.
Эта статья была написана В.Н. Лазаревым в качестве ответа редакции журнала «The American Art Journal» (III, 1971, №1, p. 101-104), обратившейся к нему и другим видным историкам искусства с просьбой высказаться о своей профессии, о состоянии и задачах науки, об искусстве. В том же номере журнала были напечатаны аналогичного содержания статьи Э. Гомбриха (Великобритания), М.В. Алпатова (СССР) и Я. Бялостоцкого (Польша).
Советское искусствознание ’77, вып. 2. М., 1978, с. 311-316.
наверх
|